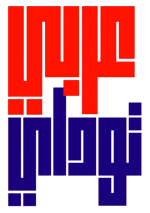Сегодня религии, без сомнения, являются одним из факторов, которые всё более заметно влияют на формирование и трансформацию международных отношений. Следовательно, их роль необходимо изучать с использованием тех же инструментов и с той же степенью аналитической точности, которые традиционно применяются к другим разделам политических наук.
Как сообщает ArabiToday об этом говорится в статье опубликованной а марокканской газете Tajaliyat
Одним из таких инструментов является геополитика. Если рассматривать религии с чисто политической точки зрения — как политические инструменты среди других политических инструментов, — то можно в общих чертах сказать: чтобы понять международные явления, в которых религии играют роль, сначала следует изучать геополитику, а не религию. Разумеется, это значительное упрощение, поскольку каждая религия обладает уникальной сутью, что делает её специфическим политическим инструментом. Однако подобное упрощение позволяет правильно расставить методологические приоритеты.
Чтобы лучше понять эту идею, приведём пример Ближнего Востока. Если кто-то хочет изучить феномен так называемого «Исламского государства», он должен анализировать прокси-войну между Ираном, Саудовской Аравией, Турцией и Катаром за контроль над Большой Сирией и роль традиционных мировых держав — а не Коран. В данном конфликте контроль над территорией является целью, тогда как Коран выступает одним из средств достижения этой цели.
Напротив, многие старались объяснять события на Ближнем Востоке предполагаемым историческим противостоянием суннитов и шиитов. Однако в современной истории до иранской революции 1979 года крупных столкновений между суннитскими и шиитскими сообществами практически не было. До 1979 года Иран и Саудовская Аравия находились на одной стороне холодной войны, и их международные позиции предотвращали открытое соперничество за доминирование в регионе. После 1979 года наиболее выгодной стратегией для Саудовской Аравии, пытавшейся уравновесить неравные отношения с Ираном, стало использование суннитского большинства (около 90% мусульман мира) против шиитского меньшинства (примерно 10%).
Религия повсюду становится объектом политической эксплуатации в целях, не имеющих отношения к спасению души. Как писал Грэм Фуллер: «К религии всегда будут обращаться там, где это возможно, чтобы мобилизовать массы и оправдать великие кампании, сражения и войны. Но причины, кампании, сражения и войны — не о религиях» («Мир без ислама», 2010).
Это возможно потому, что священные тексты могут служить чрезвычайно гибким политическим инструментом. С опорой на тексты любой религии можно обосновать любые тезисы и их противоположности. Во время ожесточённых политических споров о рабстве в США в XIX веке как сторонники, так и противники рабства широко использовали библейские цитаты для защиты своих позиций. Как отметил Жак Берлинерблау, исследователь из Джорджтаунского университета, изучавший эксплуатацию Библии в американской политике: «Библия может быть использована против самой себя, по любому вопросу… В ясном и последовательном политическом дискурсе Библия столь же надёжна, как лёд, туман, гололёд и внезапные наводнения для безопасности дорожного движения» (Thumpin’ It, 2008).
Политическая роль религий
Когда речь идёт о политической роли религий, важнейшее различие проходит между «пассивными» и «активными» религиями. Пассивные религии не способны к независимой политической инициативе как минимум по трём причинам:
- у них нет единого руководства, признаваемого всеми верующими;
- они не имеют священнического посредничества между верующим и Богом;
- их священные тексты не имеют единственного общепринятого толкования (что позволяет использовать их против самих себя).
Напротив, активные религии обладают противоположными характеристиками:
- имеют единую руководящую структуру, признаваемую всеми верующими;
- имеют иерархическое духовенство;
- их священные тексты имеют единый, канонический, авторитетный комментарий.
Только «активные» религии способны к самостоятельным политическим действиям.
Суннизм, индуизм, иудаизм, евангелизм — и многие другие — являются примерами пассивных религий. У них нет единого признанного религиозного центра, и каждый верующий (или группа верующих) может интерпретировать священные тексты самостоятельно. Поэтому эти религии могут одинаково легитимировать террор, обезглавливание «неверных» или — опираясь на те же тексты — смирение и универсальную гармонию между людьми. Их тексты «подходят для ясного и последовательного политического дискурса не больше, чем лёд, туман, холод и внезапные паводки подходят для безопасности дорог».
В определённой степени православные церкви и другие институционально организованные церкви также являются «пассивными», но по другой причине: будучи тесно связаны с государством и подчинены ему, они лишены возможности самостоятельной политической инициативы.
Если кратко, единственной религиозной институцией, способной к независимой политической инициативе — то есть «активной» — является Римско-католическая церковь. Как сказал один кардинал в беседе с французским журналистом: «Мы, несомненно, оказываем влияние на мировую сцену всякий раз, когда появляется возможность… Мы — единственная религиозная власть, способная на это. Только Католическая церковь имеет официальные посольства практически во всех странах мира, а также единое централизованное руководство. Мы настолько привыкли к этому, что часто забываем, насколько наше положение уникально» (Confession d’un cardinal, 2007).
Это описание верно, хотя дипломатическая сеть Святого Престола — скорее следствие силы Церкви, чем её источник. Источник её влияния — в истории, организационной структуре и, прежде всего, в многовековом опыте управления человеческими делами, особенно политическими.
Историческое происхождение этой особенности
Этот опыт восходит ко временам распада Римской империи. На востоке империи политическая власть была сильной и централизованной, поэтому Церковь оказалась подчинена государству: фактически император был её главой, даже в богословских вопросах. Макс Вебер описал это как «цезарепапизм» — когда светская власть обладает «верховной властью в церковных делах по праву собственной легитимности».
На западе Римской империи, где государственная власть была слабой или отсутствовала вовсе, именно Церковь стала единственным централизованным институтом. Её епархии заменили исчезающую имперскую административную систему. Таким образом, латинская Церковь развилась как центр прямой политической власти — опыт, который она разделяет лишь с некоторыми буддийскими структурами. Недаром и буддизм, и латинское христианство — единственные два религиозных организма, независимо разработавшие доктрину «справедливой войны». Разница лишь в том, что христианство создало единую теократию, тогда как буддизм — множество отдельных теократий, что сделало его уязвимым перед светской властью.
Возвращение религий в публичное пространство
Религии вернулись в публичную сферу в 1970-е годы. Как отметил Жиль Кепель, «семидесятые стали поворотным десятилетием в отношениях между религией и политикой» (La Revanche de Dieu, 1991).
Что произошло?
- В развивающемся мире быстрая индустриализация сельского хозяйства привела к массовому исходу из деревень и стремительной урбанизации, совпавшей с политическими кризисами постколониального периода.
- В развитом мире кризис 1974–1975 годов положил конец «тридцати славным годам» послевоенного экономического роста и стал началом эпохи неолиберализма, ускорив упадок традиционного вестфальского государства.
В развитых странах религии возвращались в публичную сферу в обратной пропорции к снижению доверия к государству. Чем хуже государство справлялось с обеспечением смысла и социальных услуг, тем выше становилась роль религии.
В развивающихся странах возвращение религии было ещё более резким: урбанизация была стремительной и разрушительной. Для миллионов крестьян-мегаполисов связь с религией и сельскими традициями стала единственным социальным спасением. В переполненных кварталах строились импровизированные мечети, религиозные благотворительные организации заменяли инфраструктуру, а власти воспринимали «народную религиозность» как щит от социального взрыва.
В 1970-е годы жизнь жителей и развитых, и развивающихся государств претерпела мощные потрясения. Когда эти процессы совпали, политическая эксплуатация религий стала детонатором скрытой до того «де-секуляризации». Вначале лишь немногие понимали новый политический статус религии; сегодня же он стал частью повседневной реальности. Игнорировать роль этого мощного актора -значит лишить себя возможности адекватно понимать современную политическую жизнь.